Беседа с Анатолием Разумовым, руководителем центра «Возвращенные имена»

– Анатолий Яковлевич, как, с вашей точки зрения, изменилось за последние годы отношение общества к теме большевистских репрессий?
– Отношение общества мы не знаем – полной картины не видим, так как нет свободного общественного диалога. Да, кто-то что-то обсуждает в интернете, в социальных сетях. Но для большой части людей, не живущих в этом пространстве, был бы важен другой диалог. Это в первую очередь касается тех, кто смотрит центральные каналы телевидения и пользуется другими подобными средствами массовой информации.
А так происходят вещи прямо противоположные. Можно поставить памятник жертвам репрессий, а можно сказать, что Сталин сделал много хорошего. Такого рода «каша» преподносится в качестве нормы и в достаточно серьезных изданиях.
Мы начали работу над «Ленинградским мартирологом» во «вторую оттепель», которую еще называют «перестройкой». Тогда мы думали, что вот сейчас откроется правда и обратного хода не будет – все узнают, поймут, правда будет частью той памяти, от которой нельзя избавляться. Ведь речь идет о согражданах, о которых десятки лет вообще нельзя было говорить, места захоронений многих из них мы до сих пор не знаем. Однако «второй оттепели» хватило приблизительно лет на десять.
 Анатолий Разумов. Фото: Ольга Фёдорова
Анатолий Разумов. Фото: Ольга Фёдорова
Вот у меня на полках стоят книги памяти о репрессиях, о войне, о блокаде Ленинграда. Когда появилась возможность издавать книги с именами погибших и пропавших без вести во время Второй мировой войны, часть которой у нас называют Великой Отечественной? Через 40 лет после окончания войны, в 1985 году. До этого власти боялись официально дать ход полной памяти. Да, были монументы, фанфары… А люди? Бесчисленные миллионы погибших и пропавших без вести людей? И мы до сих пор их называем, называем. Тем более это касается темы репрессий, ею стало можно заниматься еще позднее – в 1989 году: после издания книг памяти о войне позволили публиковать списки репрессированных. С тех пор я только этим и занимаюсь.
Однако хорошо помню, когда всё изменилось. К 1997 году у власти уже пропало желание заниматься темой репрессий всерьез. В 1996 году указом президента России не только 7 ноября того года был объявлен Днем согласия и примирения, весь 1997 год был объявлен Годом согласия и примирения. Вся чиновничья «машина» ведь как устроена: сейчас получим деньги, проведем мероприятия – и вопросы будут решены. Так и получилось: для этой части людей вопросы решились. И после 1997 года даже постановлений о реабилитации стало очень мало. Я в том году раскапывал страшный могильник – Бутовский полигон, мой коллега Юрий Дмитриев тогда же нашел Сандармох и Красный Бор.
Но ведь эта тема должна быть рядом с нами всегда. Мне до сих пор пишут, звонят, приходят ко мне люди и спрашивают о репрессированных. Интересующихся не стало меньше. Причем это не только потомки пострадавших, но и те, кто просто оказался поражен какой-то биографией.
И если в самом начале этой кампании, через полвека после Большого сталинского террора, когда в 1989 году стали открывать некоторые (но не все) спецобъекты Госбезопасности, связанные с расстрелами, родственники погибших были рады любым сведениям, полученным от архивистов или таких общественников, как я, то приходящих теперь, как правило, интересует конкретика: «Где документы? Почему их нельзя свободно увидеть? Почему об этом нельзя свободно говорить? И где могилы?»
Сегодня людей интересует конкретика: «Где документы? Почему их нельзя свободно увидеть? И где могилы?»
Эти вопросы я ставлю на каждом заседании Межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Пусть пока нет свободного общественного диалога, но мы должны говорить об этом. И надеюсь, постепенно власть и общество придут к пониманию, что злодеяния надо называть злодеяниями, а не говорить о том, что «время такое было». Вот есть эта Концепция, а на деле в стране существуют как бы два противоположных вектора. И даже среди родственников репрессированных есть сталинисты, которые считают, что Сталин про репрессии не знал.
– Кажется, что в последние годы просоветские тенденции обострились, причем и на официальном уровне. Кроме памятников Сталину можно вспомнить и вполне официальное празднование 100-летия комсомола…
– Это частности, а есть общее. Многого люди даже уже не замечают. Например, почему у нас официально звучит гимн несуществующей страны? Зачем он был восстановлен? Это первый серьезнейший момент для меня. Второй, такой же важный: нам неизвестны могилы миллионов людей, они были лишены жизни и лишены права на нормальное погребение.

Только осенью прошлого года отец Кирилл Каледа зарегистрировал на имя президента документ под названием «Право на память». Я принимал участие в подготовке этого документа. Где могила священномученика митрополита Вениамина (Казанского)? Где могила священника Павла Флоренского? Где могила Николая Гумилева? Где могилы наших сограждан? Почему не публикуются документы об этом? Никакого результативного хода этому документу за год дано не было, потому что нет новой политической воли, пока нет.
Еще один серьезнейший повод для размышлений – Красная площадь. Получается, что у нас в стране места захоронений миллионов людей неизвестны, эти люди не получили права на могилы. А на Красной площади в сердце страны мы ходим парадами и отдаем почести организаторам Красного Ленинского террора Ленину и Дзержинскому, Большого Сталинского террора Сталину, Ворошилову, Жданову, Вышинскому.
Я несколько лет думал, как говорить на эту тему, чтобы не накалять страсти, чтобы разговор продолжался после моих рассуждений, и теперь в публичных интервью, в частных беседах и даже на той самой Межведомственной рабочей группе предлагаю следующий вариант решения этой проблемы. Вопрос о захоронении Ленина, на мой взгляд, неверно поставлен: Ленин похоронен – его так похоронили, большевики называли мавзолей «великой могилой». И получается, что миллионы могил неизвестны, а «великая могила» на Красной площади «сияет».

Перенести всё прикремлевское кладбище, включая могилу Ленина, с Красной площади на федеральное воинское кладбище в Мытищах
Предлагаю перенести всё прикремлевское кладбище, включая могилу Ленина, с Красной площади на федеральное воинское кладбище в Мытищах. Не сносить, не уничтожать – каждый имеет право на могилу. Но могилам место на кладбище. На кладбище в Мытищах достаточно много места и подходящая архитектура. Если бы это случилось, ушла бы часть морока. Пусть это произойдет не сегодня и, может быть, не завтра, но даже свободный разговор на эту тему считаю очень важным. Кстати, сколько я ни высказывал эту идею, никто не высказал мне возмущения – никого она не оскорбила.
– А идея похоронить Ленина на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге?
– Это невозможно. Высказывая эту идею, люди просто не делают второй и третий логические шаги. Потому что если Ленина перенесут на Волковское кладбище, то другие могилы останутся у Кремлевской стены, останется и мавзолей в качестве музея.
– Кроме всего перечисленного вами у нас в стране до сих пор сохраняется и множество советских топонимов.
– Я выступаю за возвращение как можно большего количества старых, дореволюционных названий в нашей стране – городам, улицам, площадям и так далее. Нельзя в этом останавливаться. Что касается бесчисленных памятников большевистским деятелям, то я не сторонник их уничтожения – можно сделать для них специальные парки, пусть себе там стоят.
Думаю, при свободном обсуждении возможно будет не только убедить людей вернуть большинство топонимов, которые были переименованы, но и предложить замены многим, появившимся уже в новостройках. Так, в Санкт-Петербурге для улицы Белы Куна я предложил бы топоним Братиславская – ведь в этом районе несколько улиц, названных в честь восточноевропейских столиц. Но когда улицам давали эти названия, Словакия входила в состав Чехословакии, и Братислава не была столицей независимого государства. А вообще для петербургского большевистского новостроечного «куста» я предложил бы топонимы, связанные с сибирскими городами. Таких мало на карте нашего города – появились бы, например, улицы Читинская, Владивостокская…
Конечно, любое, даже самое взвешенное решение кем-то будет воспринято болезненно. Но, извините, мы тоже имеем право на своей земле говорить то, что думаем. За 30 лет, которые я занимаюсь Книгами памяти, я стал говорить больше и откровенней. Нет у нас больше права молчать, уходить в сторону. Иначе будет, как было раньше: «Ой, нет, детям не скажем, они расскажут где-то еще, тогда нам всем конец», а позже, уже не в такие суровые времена: «Не будем говорить, вырастет – сам узнает, сам поймет».
И поколение за поколением росло, избегая даже думать на эти темы. Вот это и есть то самое общество, в котором мы живем. Готово оно принять правду о репрессиях или не готово, меня это больше не волнует. Я говорю всем и всё. Очень люблю, когда ко мне обращаются школьники, их родители и преподаватели, еду с ними на Левашовское мемориальное кладбище, говорю обо всём, что знаю, видел и читал. Всем, включая родственников тех, кто отвечал за расстрелы, говорю то, что знаю.
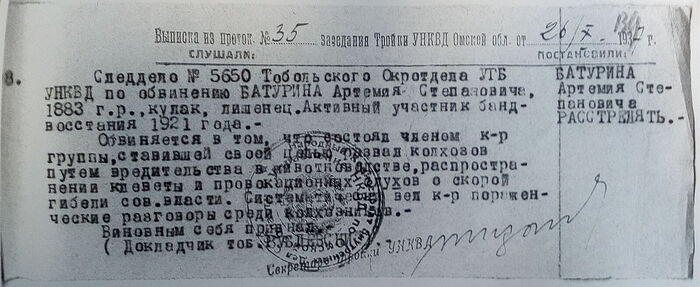
– Какие человеческие истории вас особенно впечатлили?
– Вот сидит передо мной дочь расстрелянного, говорит: «Он не был расстрелян». – «Почему вы так думаете?» – «Потому что он потом к нам приезжал, я его видела». – «Где вы его видели?» – «После войны мы жили в Риге. Он приходил к нашему дому и смотрел на наше окно». – «Почему вы решили, что это был он?» – «Знаю». – «Почему же он к вам не пришел?» – «Что-то у него в жизни случилось. Он боялся». Женщина долгие годы жила с этой уверенностью. Мы с ней добились и получили документы. Когда она поняла, что отец был расстрелян, она у меня на глазах будто постарела на несколько лет. Для меня это одна из самых страшных историй.
Когда сталкиваешься просто с легендой, то пытаешься родственникам это объяснить. Они понимают, что в настоящее время его в любом случае уже нет в живых. Но они не могут принять факт его убийства в день, который обозначен в документах: в сознании членов семьи этот человек долгие годы продолжал жить. Для поддержания сердец родственников репрессированных людей появлялись легенды. Я даже для себя придумал рабочую гипотезу их появления. Возвращается кто-то из лагеря, к нему сразу: «Ты моего случаем не видел? Вот он так и так выглядит…» – «Ну, был вроде там похожий…» И всё, этого достаточно.

– Излюбленная тема защитников советского режима – о том, что количество репрессированных завышено.
– Когда мы с Юрием Петровичем Груздевым работали над 1-м томом «Мартиролога», я сказал ему: «Давайте сделаем указатель питерских предприятий, возьмите это на себя». Он это сделал. И после выхода 2-го тома он меня долго убеждал, что нельзя обходиться без статистики: сколько расстреляно крестьян, сколько учителей, сколько рабочих, какого возраста, пола, когда расстреляны и так далее. Я согласился. И он подготовил статистику для следующего тома. Мы оговорили, что это только по расстрелянным в таком-то месяце – а поначалу каждый том у нас был посвящен одному месяцу. После этого мы пошли в Институт социологии, чтобы узнать, насколько грамотно подготовлена статистика, – нас одобрили. С тех пор мы каждый том сопровождаем статистикой. Вот такая статистика для меня имеет значение, так как мы ставили себе задачу не пропустить ни одно имя. Мы опубликовали 13 томов, и по ним есть статистика – по ленинградским приказам о каждом расстреле. Но можно представить, что за пределами этой статистики.
Во-первых, оказалось, что наша статистика несколько выше, чем та, которая была озвучена официально. А если в целом по стране, то, думаю, были бы очень серьезные корректировки. С официальными данными ведь как хитро: какую-то одну категорию людей не назовешь – и количество уже другое.
О какой точной статистике мы говорим, если даже не можем указать до миллиона погибших и пропавших без вести во время войны? То же самое касается репрессированных. Функция книг памяти – постепенно называть имена и статистику корректировать. Но главное: когда ставишь во главу угла каждое имя, вроде как и нелепо говорить о том, насколько точна статистика. А если всё же об этом говорить, то мы в сторону этой точности и движемся. Мое личное мнение: по репрессиям у нас больше шансов достичь реальной статистики, чем по войне, потому что всё-таки многое учтено. Но есть и исключения, например голодомор. Есть страны бывшего СССР, где к этой теме подошли куда глубже.
В Концепции государственной политики увековечения памяти жертв политических репрессий, которая была принята в августе 2015 года, приведено количество реабилитированных. Так вот, начиная с 1991 по 2014 год в Российской Федерации реабилитированы около 4 миллионов человек. Это и расстрелянные, и не расстрелянные, и их дети, которые признаны жертвами политических репрессий. Теперь прибавьте тех, кто был реабилитирован до 1991 года, и тех, кто за пределами Российской Федерации.
А ведь еще не учитываются те, кто по существующему закону о реабилитации никогда не будет реабилитирован. Например, у человека была статья не политическая, а уголовная, по которой он в нормальном государстве был бы осужден на год-полтора или вообще условно, а он тайно расстрелян без объявления приговора. Тела таких людей лежат в тех же общих ямах.

Собор святых новомучеников и исповедников Российских
– Сегодня находятся люди, в том числе молодые и не всегда коммунисты, которые героизируют Дзержинского и прочих, а про жертв политических репрессий говорят: «Ни за что не расстреливали». Например, канонизированных Православной Церковью новомучеников и исповедников считают «контрреволюционерами», «фашистами» и «антисоветчиками». Иногда эти люди ссылаются на протоколы допросов, в которых записаны самые разные признания…
– Строители «нового мира» пришли к власти ранее строителей «нового порядка» – фашистов и нацистов. Большевики и созданные ими чекисты – ленинцы и сталинцы – сотворили такое, что не снилось запрещенному в современной России ИГИЛу. Мы потеряли миллионы соотечественников, названных «контрреволюционерами» и «врагами народа». Места их погребений безвестны или известны как могилы изгнанных эмигрантов. И вот находятся люди, для которых подлые «пыточные бумажки» – мерило законности. Печально.
Получается, им так же всё равно, что людей без суда, без объявления приговора, тайно убивали но ночам, утрамбовывали в общие ямы, рвы-накопители, траншеи. Родственникам полвека и более врали в официальных свидетельствах о смерти, что расстрелянные умерли от паралича сердца или цирроза печени. И по сию пору места погребений убитых большей частью есть государственная тайна. Поэтому я снова спрашиваю: «Где наши могилы?! Где наше право на память?!»
И по сию пору места погребений убитых большей частью государственная тайна
– В своих интервью вы, упоминая название, которое носил наш город в течение нескольких десятков лет большевистского правления, прибавляете «к сожалению». Но почему тогда «Ленинградский мартиролог»?
– По периоду. 17-й том, который относится к периоду с 1917 по 1923 годы, будет называться «Петроградский мартиролог». Люди должны понимать, что Ленинград – это самый тяжелый период в истории нашего города, когда население было утрачено, может быть, дважды и неестественным путем. Конечно, для меня «Ленинград» – не светлое название.
Как я уже говорил, меня заботят топонимы, которые до сих пор не вернули нашему городу. Каждый год открываю для себя что-то новое. Начать можно с топонима Милосердие. Ведь два прекрасных топонима – «улица Милосердия» и «Теряева улица» – были заменены в советское время на один: «улица Всеволода Вишневского», при том что Вишневский там даже не жил. Так что говорю: «Нет улицы Милосердия, да и с милосердием у нас плохо». Понятно, что и улице Ленина, и улице Марата, и Советским улицам, и площади Восстания надо вернуть названия, и многим другим. А знаете, что улица Комсомола была Симбирской? Вот я бы комплексно вернул Симбирскую, площадь Финляндского вокзала вместо площади Ленина, да и стоящий там памятник Ленину переместил бы куда-нибудь в другое место.
30 октября 2020 г.



